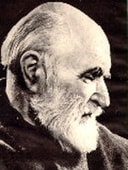В моей ,памяти четко стоит высокий, худой человек с сеткою красных и лиловых жилок на лице, с обвислыми, как у птицы, дряблыми щечками. Каждое- утро он аккуратно брился перед зеркалом, приглаживал гребешком редкие пересыпанные перхотью волосы, вынимал из-под тоненького тюфяка брюки, сохранявшие модную складку, хрипло откашливаясь, долго возился с запонками и отложным гуттаперчевым воротничком, крылышком обмахивал высокий, лоснившийся цилиндр и уходил точно в десять. Куда он уходил, чем занимался, откуда доставал те полтора целковых, ч-го еженедельно с каждого из нас брала хозяйка за угол и кровать, — мы не знали, не спрашивали, да и не полагалось расспрашивать о таком. Только раз видел я его в городе сидящим за мраморным столиком большого кафе, где он, оттопырив мизинец с длинным отточенным ногтем, держа на отлет голову, читал газету. Из пяти жильцов была одна женщина. Ее чистенькая, с белоснежными подушками, пахнувшая духами девичья кровать стояла у задней стены на лучшем месте. Владелица нарядной кровати была молодая, белозубая, веселая девушка, взатяжку курившая длинные папиросы, умевшая очень смешно морщить свой маленький носик, не раз выручавшая нас от лихой тоски своим беззаботным, открытым характером. Помню, с каким неуклюжим смирением ходили мы на цыпочках, когда по утрам, свернувшись под одеялом в калачик, она спала на своей кровати. И так же, как худой господин в цилиндре, она уходила почти каждое утро и возвращалась поздно, когда мы засыпали на своих жестких койках, торопливо раздевалась под одеялом. И, притаив дыхание, мы долго прислушиваемся к шелесту, вздохам и ее дыханию. Случалось, она угощала нас папиросами, наливкой и колбасой. Мы слушали, как она рассыписто и молодо смеется, смотрели на сборившиеся на ее носу морщинки, смеялись сами и, кажется, были немножко в нее влюблены. И так же, как о господине в цилиндре, никто из нас не знал толком, чем живет, кто, откуда веселая наша товарка...
Как памятен мне день поступления на «Ольгу»! Вот я медленно поднимаюсь по скрипучему высокому трапу, ступаю на чистую палубу. Тяжелый краснолицый человек сидит за дверью открытой каюты. Мне виден его затылок, въевшийся в красную шею воротник белого кителя, редкие, коротко обстриженные волосы и толстые, прижатые к голове уши. Он взглядывает на меня мельком, не меняя позы, продолжает набивать над столом папиросы. Я смотрю на его локти, на большие руки, берущие из коробки папиросные гильзы, на внутренность каюты: фотографии над покрытой коричневым одеялом койкой, японский веер, стеклянный аквариум с зелеными водорослями и маленькими рыбками.
— Паспорт есть? — коротко спрашивает он, укладывая в портсигар папиросы. И, тяжело повернувшись на складной табуретке, смотрит в упор своими опухшими глазками. — Можешь приносить вещи.,,
С каким неподкупным весельем проводим мы последний тот вечер!..
А через день пароход уходит в море. Как всегда перед отходом, на палубе шумно и толкотно. Играет па берегу оркестр. Чиновники в белоснежных кителях и фуражках с белыми верхами важно стоят в толпе. Плотно теснятся на краю серой каменной пристани женщины со смеющимися и заплаканными лицами, машут платками. Ревет третий гудок, от которого вздрагивает, глубоко дрожит железное нутро парохода, а женщины, морщась и смеясь, закрывают уши... Когда отрываюсь от работы, пристань уже далеко, уплывают крыши пакгаузов, белые кителя, блеск медных труб оркестра, тоненькая полоска толпы, над которой все еще трепещет белая пена платков.
А ночью я на вахте. Над морем, над пароходом глубокое, запорошенное звездами, темно-синее небо. Я стою один на баке, смотрю на небо, на море, на кипящую под форштевнем воду, в которой все время загораются, гаснут голубые, холодные искры, и при свете их мне видны веретенообразные, гибкие спины дельфинов, играющих у пароходного носа. Сменяюсь, когда на востоке чуть зеленеет заря, а над самым морем ярко сияет одинокая звезда. Засыпая, думаю о завтрашнем дне, а будят меня, когда над морем уже встает-подымается большое горячее солнце...
Было или не было?
Босфор и Константинополь, Смирна и Бейрут, Мерсина и Триполи, Родос и Александретта, Пирей и Яффа! Мы возим старых, седых евреев, молчаливых турок, ленивых персов, говорливых греков, красивых болгар, огненноглазых итальянцев, каменноспокойных англичан, стройных и легких арабов, калужских и ярославских говорящих на «а» и на «о» стариков и старушек, круглолицых баб-паломниц, едущих через моря в Иерусалим—к «пупу земному». И помнятся дни, когда на обратном пути из Яффы равнодушный ко всему на свете юнга Ковальчук парусной иглою не раз зашивал в старый брезент не выдержав ших далекого путешествия, обобранных иерусалимскими монахами старух богомолок, как, привязав