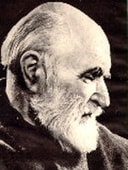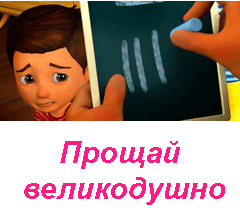Помню: синее-синее море, над морем синее—чуть зеленое—небо, в синем стоят—чуть чертят—тонкие мачты «Ольги», и теплый полуденный ветер сбивает с трубы седые плотные кудри дыма, И живо помнятся мне тогдашние береговые стоянки: яркое над морем и знойными берегами солнце; великое множество человеческих голосов, тел, лиц, рук, глаз; синеющая прохлада стамбульских мечетей и кипарисовая тихость Босфора; ослепительный Атос, знойная Александретта, Мерсина, Триполи, Смирна, Пирей, Бейрут, Яффа; шумные вечерние переулки Александрии и Галаты.
Помню ночные долгие вахты: полное играющих звезд небо, ослепительно прекрасный над древним греческим морем восход солнца, первое легкое дуновение предутреннего бриза. Ошеломительный многоязычный и многоцветный человеческий поток, женские лица; помню себя самого молодым, легким, жадно вглядывающимся в светлый, просторный мир.
А еще помнится мне из этого дальнего года мой маленький волосатый друг—шимпанзе Яшка.
Купил я его в Порт-Саиде у кривого араба-подростка. В те времена матросы занимались невинною контрабандой: в Смирне и Бейруте покупали всякие пустяковые украшения и безделушки, в Александрии и Порт-Саиде — страусовые перья и табак. В Порт-Саиде покупали матросы еще много всякой живой твари, и в кубрике было тесно от клеток с маленькими жившими парами попугаями-неразлучниками, о которых рассказывали, что ежели погибал один — от тоски умирал и другой; от клеток с обезьянами и коробок с медлительными хамелеонами, вытягивавшими свои лапки...
Животных приносили на пароход арабы. Они наполняли палубу, толпились и кричали, размахивая руками, и можно было подумать, что на пароходе случилось несчастье... Весь день, пока разгружался и стоял в порту пароход, в канале, в зеленовато-мутной морской воде, точно лягушата, задирая на пароход курчавые головы, плавали голые коричневые арабчата, а сверху, с парохода, свесясь за поручни, глазевшие на них пассажиры изредка бросали в воду монету, и арабчата, как по команде, мелькнув желтизною пяток, ныряли, и через минуту одна за другою поплавками всплывали их круглые мокрые головы, и один из них показывал пойманную монету
Яшку принес на пароход высокий араб с вытекшим глазом. Он долго таскал его по всему пароходу, держа на голом плече, прижимая к нему свою курчавую голову. Яшка сидел спокойно, по-человечьи держась за хозяина руками, печально поглядывая на рассматривавших его людей. И то ли опоздал араб к разгару торговли или не умел соперничать со своими крикливыми земляками, — до позднего вечера он бродил по пароходу, и вышло так, что перед самым отходом Яшку купил у него я. Это был крупный самец шимпанзе, обросший густой шерстью, с серебряной в виде полумесяца — серьгой в левом ухе, с поседевшею грудью, с черными ладонями маленьких рук, которыми он осторожно и цепко брал даже самые хрупкие предметы, со старушечьим лицом, на котором умно и печально глядели вертевшиеся в глазных впадинах недобрые темные глазки. Араб торговался долго, показывая на обезьяну, колотя себя в грудь, закатывая единственный глаз и жалобно скаля зубы. И мне показалось, что он жалеет продавать своего зверька. Показывая на серьгу в ухе, улыбаясь, я спросил, как умел:
— Кардаш?.. Яхши?..
О-о! ответил он, раскачиваясь и прикладывая к голой груди свою темную руку. — О-о!.. Яхши, яхши!.. Хорош!
Получив деньги, он передал мне конец тонкой цепочки, обвившей волосатую шею Яшки, раскинул острые колени, пружинисто опустился на своих тонких, сухих ногах и, посадив на палубу Яшку, чтобы показать его умение, скомандовал громко:
— Селям!
Яшка обеими рукам оперся о палубу, перекинул свой голый бородавчатый зад, смешно и жалко зашевелил бровями и, вытянувшись строго, приложил к голове козырьком руку, как это делают турецкие и египетские солдаты, отдавая честь.
Яшкой его окликали на пароходе матросы. И в первый же день оказалось, что у Яшки самый неуживчивый характер, что других самцов-обезьян он не терпит, при всяком случае ладит дать хорошего тумака, и его пришлось держать особо, на привязи. Местечко ему отвели под полубаком, в углу, на стружках. Он сидел покорно-печальный, брал от подходивших к нему матросов гостинцы, посматривал исподлобья, ловил в, рассмотревши в пальцах, не спеша казнил на зубах блох. Матросам он полюбился за скорую смекалку, за свой дерзкой характер, за умение выделывать всякие смешные штуки. К нему подходили, садились на корточки и говорили:
— Ай да Яшка! Молодчина! Не поддаешься!
И он смотрел снизу вверх, будто все понимая, жуя по-старушечьи губами.
— Яшка, селям!
Встряхнувши серьгою, подтолкнувшись, он быстро и отчетливо отдавал по-военному честь.